Прежде чем приступить к обзору мартовско-апрельского номера литературного журнала «Волга», позволю себе сделать отступление. «Что лучше греет в мороз - три рубашки или рубашка тройной толщины?» - ответ на этот простой вопрос всем знаком не только из школьного курса физики, но также из житейской практики. О чем речь? Конечно же, три рубашки, надетые одна на другую! Потому что между ними существует невидимая (однако очень важная в мороз) воздушная прослойка, которая тоже удерживает тепло...
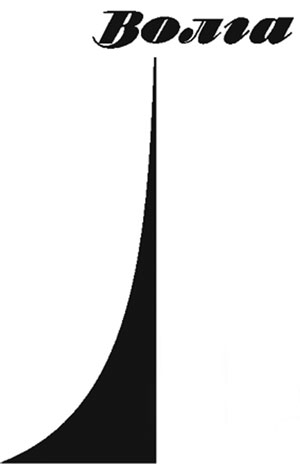 Прежде чем приступить к обзору мартовско-апрельского номера литературного журнала «Волга», позволю себе сделать отступление. «Что лучше греет в мороз - три рубашки или рубашка тройной толщины?» - ответ на этот простой вопрос всем знаком не только из школьного курса физики, но также из житейской практики. О чем речь? Конечно же, три рубашки, надетые одна на другую! Потому что между ними существует невидимая (однако очень важная в мороз) воздушная прослойка, которая тоже удерживает тепло...
Прежде чем приступить к обзору мартовско-апрельского номера литературного журнала «Волга», позволю себе сделать отступление. «Что лучше греет в мороз - три рубашки или рубашка тройной толщины?» - ответ на этот простой вопрос всем знаком не только из школьного курса физики, но также из житейской практики. О чем речь? Конечно же, три рубашки, надетые одна на другую! Потому что между ними существует невидимая (однако очень важная в мороз) воздушная прослойка, которая тоже удерживает тепло...
Если исходить из той же логики учебника физики, рассказ в нашей литературе должен был остаться наиболее популярной формой, а сборники рассказов - наиболее продаваемыми у нас книгами: ведь каждая небольшая история (если она талантливо изложена) окружена неким особым флером, тайным «воздухом» подтекста, аллюзий, сюжетных и прочих ассоциаций, неизбежных «рифм» с прочитанной ранее литературой и с окружающей нас реальностью. Казалось бы, сборник размером в триста страниц должен сильнее «согревать» читателя, нежели роман точно такого же объема. И вовсе не романисты, получившие приз «Большая книга» за толстенные тома, а финалисты конкурса имени Юрия Казакова (малая форма) должны становиться наиболее востребованными авторами, за которыми, по идее, обязан гоняться с договором наперевес любой издатель.
В реальности же всё обстоит ровно наоборот: сегодня роман в разы легче продать, чем сборник. От рассказов издательские гранды старательно бегут, и если ты случайно не Пелевин, то и не мечтай увидеть свою малую прозу в книжном формате. Давно канули те далекие времена, когда в нашей стране именно сборники - будь то «Литературная Москва» или «Тарусские страницы» - становились событиями. Ныне альманах «МетрОполь» шел бы к читателям не менее мучительным и печальным путем, чем при советской власти. Только теперь на пути альманаха вставали бы не цензоры, но маркетологи.
Причина феномена понятна, да, собственно, это и не феномен: сегодня искусство en masse уже не воспринимается в малых порциях, когда грамотный потребитель изысканного меню если и не был «соавтором» повара, то, по крайней мере, осознавал, для чего служит каждый из ингредиентов блюда. Сегодня читателю, чтобы согреться в мороз, более подойдет рубашка тройной толщины, ибо воздушной прослойки из ассоциаций и «рифм» читатель не ощутит кожей, но лишь рассердится, что история кончилась задолго до того, как он успел полюбить или возненавидеть персонажей.
Для сегодняшнего потребителя культуры малая форма - слишком короткая, увы, взлетная полоса; чтобы перенестись в придуманный художником мир, требуется роман, а еще лучше романный цикл. Все, наверное, обратили внимание на то, что телесериал, который еще лет двадцать назад считался на Западе разновидностью фастфуда, ныне становится объектом серьезных инвестиций - причем не только финансовых, но и художественных. И если раньше звезды Голливуда могли снисходительно согласиться (в перерыве между съемками в блокбастерах, по дружбе или, предположим, ради развлечения) на гостевой эпизод в телевизионных лонг-стори, то теперь на телеэкранах появляются в главных ролях Дастин Хоффман, Аль Пачино, Тим Рот, Кэти Бейтс, Харви Кейтель, Стив Бушеми...
Вы спросите: к чему весь этот долгий - на половину статьи - экскурс в историю современности? Да к тому, уважаемый читатель, что в нашей стране, например, сегодня едва ли не последним прибежищем «коротких историй» становится толстый литературный журнал, и упомянутая выше премия имени Юрия Казакова (кстати, почти символическая по деньгам - не сравнить с Букером) подпитывается ныне лишь журнальными публикациями. Рассказ как форма - вне зависимости от жанра - освобождается от коммерции, уходит в область «чистого искусства» и живет теперь там.
Так получилось, что мартовско-апрельский номер нашей «Волги» стал парадом малых форм, выставкой достижений литературного хозяйства. То есть да, конечно, в номере есть и большая повесть («Люди до востребования» Андрея Белозерова), и поэтические публикации (стихи Ольги Баженовой, Светланы Буниной, Рафаэля Шустеровича, Евгения Стрелкова, Сергея Трунева и Вячеслава Савина), и три очень содержательных философско-киноведческих эссе Николая Болдырева о «позднем» периоде Андрея Тарковского, и разнообразный, как обычно, рецензионный блок. Но... В этом номере все-таки правят бал рассказы - о них и пойдет сегодня речь.
Начнем с традиционного реализма: за него в этом номере отвечает не самый последний из российских прозаиков, букеровский лауреат Денис Гуцко. Два его рассказа «Праздник» и «Амэ Фури» вроде бы не открывают новых горизонтов, но профессионально четко и умело выстроены и преподносят читателю две разнонаправленные (но одинаково достоверные) психологические коллизии. Первая - бунт «маленького человека», которому за попытку достучаться до родной дочери придется победить в себе раба, пойти наперекор трусливой житейской мудрости о шестке и сверчке и, в итоге, отправиться в места не столь отдаленные. Вторая коллизия - примирение героини с реальностью: в ту минуту, когда учительнице музыки хочется разом бросить все и послать подальше опостылевшую жизнь с ее проблемами, вдруг появляется нечто, способное удержать на плаву, отвратить от роковых решений и вернуть ее обратно в круг бытия (не такого уж, как выясняется, мучительного и тошнотворного).
На другом жанровом полюсе - «Ванна» Василия Шевцова. Поначалу читателю кажется, что всё вокруг знакомо и вполне очевидно и повествование существует в понятных координатах (длина - ширина - высота), однако это иллюзия. Чем дальше развивается история молодых супругов Виктора и Марины, благополучно оформивших ипотеку и даже сэкономивших на дешевую путевку в Турцию, тем быстрее опадают с театрального задника ошметки реалистических декораций и тем явственней проступают на нем роршаховские пятна сюрреализма. В роли убийственного топора а-ля Сорокин выступает здесь внезапная хворь Марины. Болезнь оказывается не физическим и не психическим недугом, а какой-то «черной дырой», безумным проколом в обыденности. Эта «черная дыра» в итоге со свистом утянет и Марину, и Виктора, и ипотеку, и всю «Ванну» целиком...
Рассказ Станислава Шуляка «Праздник спертого воздуха» можно, хотя не без натяжек, отнести к жанру сатиры, мишенью которой - желал того писатель или нет - оказывается наглый бульварный телевизионный байопик. Мы становимся свидетелем съемок безумного фильма из жизни Федора Достоевского (режиссер Стоверстов - не очень дружеский шарж на петербургского режиссера Константина Селиверстова, знакомого читателям «Волги»). Разворачивается злобно-пародийная круговерть, и вскоре уже неважно: то ли в образ великого писателя себе на беду вжился исполнитель главной роли, - «по Станиславскому», вплоть до полного отождествления себя с персонажем, - то ли съемочная группа откуда-то выкопала настоящего Федора Михайловича, поставила перед камерой, приперла к стенке кабальным контрактом и вынудила изображать самого себя.
Теперь - пример иного рода. Герой рассказа Алексея Колобродова «Отец» приезжает в родной Камышин на похороны матери, а сам рассказ все время балансирует на грани между оформившейся художественной прозой (со всеми присущими ей тропами - эпитетами, метафорами, сравнениями) и рабочей заготовкой для прозы, беглой записью в блоге, которая призвана очень быстро, начерно, без рефлексий, по следам только что прошедших событий, зафиксировать для памяти случившееся, не дать ему размыться новыми напластованиями - и эмоциональными, и событийными. Колобродов не ждет момента начала «творческого процесса», мига, когда Автор недрогнувшей рукой отодвигает в сторонку обычного человека и занимается своим писательским делом: сгребает в кучку «документальный материал», вычищает сиюминутное, добавляет «худлита» и аккуратно оформляет написанное в соответствии с законами литературы; Колобродов спешит, словно боится (а, может, и впрямь боится) растерять естественную горечь внезапного сиротства. Первое впечатление - самое свежее, первое ощущение - самое адекватное, первая, неотфильтрованная, реакция на раздражитель - самая болезненная. Им и место в рассказе...
Украшение номера - бесспорно, рассказ Марии Галиной «Ригель». Автор хорошо известна как писатель-фантаст, но «Ригель» не НФ, не фэнтези, а, скорее, чистый саспенс без четких фабульных привязок к фантастическому жанру. Название вкупе с некоторыми мелькающими по ходу сюжета астрономическими подробностями будто бы намекают на сюжет в духе фон-триеровской «Меланхолии» (люди в преддверии неизбежного апокалипсиса, который вызван катастрофой космического масштаба), однако здешняя апокалиптика базируется не на внешней, хорошо различимой и без телескопа угрозе конца света, а на внутренней, подспудной, тайной и даже почти не формализованной жути. Главный герой вместе с женой-американкой оказывается в деревенской глубинке. Пытаясь найти гармонию с собой, герой попадает в западню. То, что его окружает вовсе не буколическая отрада, воспетая Руссо, - не самое страшное. Альтернатива буколике, квинтэссенция «идиотизма деревенской жизни», здесь тоже мнимая: медлительные поселяне, обволакивающие гостей из урбанистического параллельного мира, медленно, шажок за шажком, сжимают кольцо окружения наподобие безжалостных марсиан из «Третьей экспедиции» Брэдбери. Не вырвешься. Не выдохнешь. И даже не успеешь понять, ЧТО случилось с тобой и близкими, и почему ты - уже не совсем ты. Совсем не ты...
Напоследок - о тексте Сергея Боровикова «Твори, выдумывай, не пробуй!». Хотя произведение упрятано в рецензионный блок журнала и по форме представляет собой отклик на выпущенный РОССПЭНом том архивных документов «из жизни» СП СССР, перед нами все же не рецензия (и очень хорошо, что не рецензия!), а именно рассказ, род мемуарной прозы, которая, скрываясь между маргиналиями, ранее присутствовала и в книге «В русском жанре». Авторское «я» выступает на первый план, и здесь нет нескромности. «Мне сложно писать об этой книге сколько-нибудь отстраненно, - признается Боровиков. - Значительная часть моей жизни связана с Союзом советских писателей. Я родился в семье члена СП, и сам состоял в СП с 1977 года». Автор не осуждает, а констатирует, не негодует, а печалится, не возмущается, а, скорее, недоумевает. Как получилось, что все палачи писателей - выходцы из той же среды? Что никакие ВЧК - ОГПУ - НКВД - КГБ не смогли бы осуществлять репрессии в отношении писателей без помощи самих членов СП? (Которые, кстати, могли вскоре пополнить ряд репрессированных.) Сталин, надо отдать ему должное, сотворил потрясающий механизм, типа машинки для наказаний из рассказа Кафки. Не случайно многие нынешние клоны сталинского СП, особенно на местах, и поныне таят в себе притаившийся зародыш зла, эдакого хищного alien’а.
Правда, сегодня, по счастью, за литературу не убивают. Но вовсе не потому, что у нас разучились убивать, а потому, что сегодня литература, с одной стороны, перестала приносить большие доходы, а, с другой стороны, перестала быть опасной. Так совпало. Знаете размеры нынешних гонораров? Знаете, какими тиражами выходят - что в Москве, что в провинции - толстые журналы? То-то и оно.
Можете считать это везением, если хотите.
