Продолжение. Начало см. в №№7-9
 Дни «ХОРЬКА»
Дни «ХОРЬКА»
Как уже было сказано, в первый же месяц работы в должности советника губернатора Эдуард Абросимов оказался в эпицентре медийной провокации, ставшей на несколько последующих месяцев одним из центральных политических событий Саратовской области.
Воспоминание 6:
«В газете «Саратовские вести» (№7, с.1-2), соучредителем которой является правительство Саратовской области, появляется огромная, почти полосная статья некоего Ивана Белозубова «Хорек пил мозг из птичьей головы», формально нацеленная против линии местной газеты «Новые времена в Саратове» и ее обозревателя Юрия Наумовича Санберга, но на деле оказывается агрессивным антисемитским (как минимум, косвенно оказались задеты и другие «не титульные» нации) манифестом. (…)
Слово «еврей» в тексте не упоминается ни разу, однако контекст решительно никого обмануть не может. «Некоренная» фамилия «Санберг» упоминается не только как фамилия (с большой буквы и в единственном числе), но и (с маленькой буквы и во множественном числе) для обозначения некой «некоренной общности», которую вслед за Шафаревичем автор называет «малым народом» или «антинародом», или «антисистемой». Представителям «малого народа» инкриминируется тут «ложь», «ненависть к прошлому», стремление «замазать его грязью», «ощущение собственной избранности, ощущение себя особым народом среди косной массы», преувеличение опасности «великодержавного шовинизма», «скептицизм по отношению к национальной системе ценностей» и, естественно, корпоративная солидарность («чувство избранности рождает ощущение единства, внутреннего родства всех представителей «малого народа», объединяет их в единое неформальное целое, всегда готовое в меру сил и возможностей помочь друг другу». (…)
В финале статьи представителей «малого народа» сравнивают с раковой опухолью, «разъедающей общественный организм» и потому смертельно опасной для Саратовской губернии. Автор нацеливает читателей на «борьбу». Поскольку с раковыми опухолями борются, по преимуществу, хирургическим путем, последний пассаж можно было рассматривать как завуалированный призыв к погромам - с целью физического устранения враждебного, по логике автора, «антинарода»… (Роман Арбитман. ДНИ ХОРЬКА. Хроника газетной борьбы саратовских областных властей с «малым народом», 2003 - с. 2-3.)
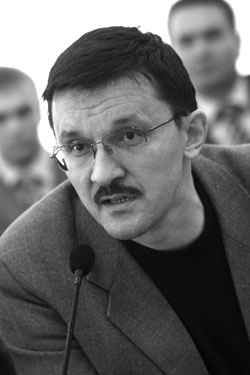 Таков вкратце был смысл и основное содержание статьи «Хорек пил мозг из птичьей головы». Выше я уже охарактеризовал эту публикацию как «медийную провокацию», теперь настало время пояснить, почему. Газета «Новые времена» стала выходить в Саратове с сентября 2002 года и сразу же привлекла к себе внимание как коллег-журналистов, так и простых читателей. Было в этом издании и нечто привлекательное, и нечто отталкивающее и при этом совершенно новое для саратовской прессы. Что касается положительных качеств газеты, то здесь я склонен согласиться с оценками Романа Арбитмана: «еженедельник «Новые времена» почти сразу сделался популярным среди представителей саратовского «среднего класса» - и благодаря высокому качеству и должной аналитичности материалов, и благодаря особому вниманию к проблемам культуры и искусства». Что касается отталкивающих черт, то они особенно явственно были заметны профессионалам и касались в основном этических проблем. Центральной темой каждого из номеров «Новых времен» стала острая критика политики губернатора Аяцкова, правительства Саратовской области и его отдельных членов. И все бы ничего, но в качестве «главных перьев» для работы в газете «Новые времена» ее издатель Леонид Фейтлихер привлек людей с довольно неоднозначной репутацией в профессиональной среде - Юрия Санберга и Дмитрия Чернышевского. Оба ранее уже поработали в окружении Дмитрия Аяцкова. Причем Санберг дважды - сначала в должности пресс-секретаря Аяцкова, а спустя некоторое время - в статусе областного министра. Примерно за год до начала сотрудничества в «Новых временах» Юрий Наумович «вляпался» в громкий процесс, когда прокуратура обжаловала незаконность его действий как министра печати и информации Саратовской области по недопущению журналистов на заседания областного правительства. Что касается Дмитрия Чернышевского, который получил пост главного редактора «Новых времен», то тот помимо недолгой работы в правительстве Аяцкова прославился во второй половине 90-х годов как главный редактор еженедельника «Земское обозрение», издаваемого «просвещенным националистом» и депутатом областной думы Сергеем Макаровым. Поверить в то, что эти люди имеют за душой нечто, что позволит им длительное время бороться с местечковым авторитаризмом Аяцкова, было довольно сложно. Но, что самое печальное, участие этих людей в таком проекте, как «Новые времена в Саратове» (образца 2002 года), значительно снижало степень доверия читателей и к самой газете, и к остальным ее авторам.
Таков вкратце был смысл и основное содержание статьи «Хорек пил мозг из птичьей головы». Выше я уже охарактеризовал эту публикацию как «медийную провокацию», теперь настало время пояснить, почему. Газета «Новые времена» стала выходить в Саратове с сентября 2002 года и сразу же привлекла к себе внимание как коллег-журналистов, так и простых читателей. Было в этом издании и нечто привлекательное, и нечто отталкивающее и при этом совершенно новое для саратовской прессы. Что касается положительных качеств газеты, то здесь я склонен согласиться с оценками Романа Арбитмана: «еженедельник «Новые времена» почти сразу сделался популярным среди представителей саратовского «среднего класса» - и благодаря высокому качеству и должной аналитичности материалов, и благодаря особому вниманию к проблемам культуры и искусства». Что касается отталкивающих черт, то они особенно явственно были заметны профессионалам и касались в основном этических проблем. Центральной темой каждого из номеров «Новых времен» стала острая критика политики губернатора Аяцкова, правительства Саратовской области и его отдельных членов. И все бы ничего, но в качестве «главных перьев» для работы в газете «Новые времена» ее издатель Леонид Фейтлихер привлек людей с довольно неоднозначной репутацией в профессиональной среде - Юрия Санберга и Дмитрия Чернышевского. Оба ранее уже поработали в окружении Дмитрия Аяцкова. Причем Санберг дважды - сначала в должности пресс-секретаря Аяцкова, а спустя некоторое время - в статусе областного министра. Примерно за год до начала сотрудничества в «Новых временах» Юрий Наумович «вляпался» в громкий процесс, когда прокуратура обжаловала незаконность его действий как министра печати и информации Саратовской области по недопущению журналистов на заседания областного правительства. Что касается Дмитрия Чернышевского, который получил пост главного редактора «Новых времен», то тот помимо недолгой работы в правительстве Аяцкова прославился во второй половине 90-х годов как главный редактор еженедельника «Земское обозрение», издаваемого «просвещенным националистом» и депутатом областной думы Сергеем Макаровым. Поверить в то, что эти люди имеют за душой нечто, что позволит им длительное время бороться с местечковым авторитаризмом Аяцкова, было довольно сложно. Но, что самое печальное, участие этих людей в таком проекте, как «Новые времена в Саратове» (образца 2002 года), значительно снижало степень доверия читателей и к самой газете, и к остальным ее авторам.
Самое же главное, что участие в «НВС» двух «перебежчиков» (а именно так этих двоих воспринимали в окружении Аяцкова) вызывало дикую злобу и желание нанести «ответный удар». В принципе, такой удар был бы возможен и вполне эффективен, если бы кто-то из чиновников или проправительственных журналистов взялся описать и проанализировать все изгибы чиновничьей карьеры Юрия Санберга или загогулины журналистского или научного пути Дмитрия Чернышевского. Однако при подготовке подобной публикации вряд ли возможно было обойти пикантные моменты из жизни самого Дмитрия Федоровича. Поэтому вместо дискуссии по существу в стане советников губернатора решили выпустить «Хорька». При этом, как я полагаю, расчет делался на то, что сами термины «малый народ» или «антинарод» вызовут бурю эмоций, что позволит перевести полемику в совершенно иную плоскость, далекую от проблем Саратовской области. Что в значительной степени и удалось.
Здесь необходимо сделать пояснение относительно термина «малый народ». В наше время его ввел в политологический оборот академик Игорь Шафаревич в своей скандальной работе «Русофобия», написанной на закате брежневской эпохи и направленной в значительной мере против евреев. Однако поскольку выступать против одной отдельно взятой национальности, уподобляясь пещерным антисемитам, респектабельному математику было не с руки, он постарался расширить историко-географический контекст и придать этому термину расширительное толкование. Согласно Шафаревичу, в каждой значимой стране есть свой БОЛЬШОЙ народ, внутри которого гнездится подрывной элемент - «определенная группа или слой, имеющий тенденцию к духовной самоизоляции и противопоставлению себя БОЛЬШОМУ народу». В «Русофобии» можно найти и детализацию самого понятия «малого народа» по странам и эпохам: «Это может быть религиозная группа (в Англии - пуритане), социальная (во Франции - третье сословие), национальная (определенное течение еврейского национализма - у нас)».
Следует отметить, что термин «малый народ» впервые возник во Франции во второй половине XVIII века. Тогда этим словосочетанием именовали последователей идей великих французских просветителей. Именно этих людей идеологи короля Людовика и прислуживающие ей церковники презрительно именовали «малым народом». В дальнейшем на плечи многих из представителей этого «малого народа» выпала участь осуществления Великой французской революции. И они отплатили своим политическим оппонентам той же монетой - изобрели термин «враги народа» и безжалостно отправляли их на гильотину. По иронии судьбы, оба эти термина на протяжении двадцатого века оказались востребованы в нашей стране. В годы «большого террора» - Иосифом Сталиным, в 80-е годы - Игорем Шафаревичем. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в современной России еще с восьмидесятых годов прошлого века использование словосочетания «малый народ» в кругах интеллигенции напоминает о книге «Русофобия» и ассоциируется с махровым антисемитизмом.
Естественно, что попытка использования этого термина в главной правительственной газете Саратовской области многими местными политическими обозревателями и журналистами была воспринята не иначе как акт, подрывающий устои межнационального и межконфессионального мира, что до этого считалось одним из наиболее выигрышных моментов политики Дмитрия Аяцкова. В саратовских газетах развернулась бурная дискуссия, которая не утихала около полутора месяцев. Не заставила себя ждать и реакция еврейской общины Саратова. На третий день после выхода «Хорька» саратовский раввин Михоэль Фрумин и глава еврейской национальной автономии Владимир Глейзер выступили по местному ТВ с гневной отповедью против антисемитской выходки в правительственной газете. После чего последовал отзыв подписей под договором об общественно-политическом согласии и четыре заявления в прокуратуру с просьбой возбудить против автора Белозубова и редактора Артемовой уголовное дело по ст.282 УК РФ - «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Прокуратура же в рамках проводимой проверки отправила текста «Хорька» на лингвистическую экспертизу. И пока ученые-лингвисты выполняли постановление следователя Олега Пименова, в саратовских газетах продолжалась полемика, которую не мог не заметить сам губернатор.
 1 февраля 2003 года в другой правительственной газете - «Саратов - столица Повольжья» появилось довольно странное заявление губернатора. Судя по тексту, Дмитрий Аяцков обращался к журналистам и главным редакторам в связи с «последней дискуссией, развернувшейся на страницах саратовских газет». Странность же заявления заключалась в том, что из его текста рядовому читателю был непонятен сам предмет губернаторской обеспокоенности. Начав, что называется, за здравие, со второго абзаца своего заявления Дмитрий Федорович переходил в заупокойную тональность. («Непроверенные, а иногда и лживые факты, подтасовка действительности (?! - А.К.), ловкая игра слов - со всем этим мы сталкиваемся на страницах наших газет, в эфире радио- и телепередач»). В своем заявлении Дмитрий Федорович притворно удивляется: «…непонятно, кому и зачем понадобилось переводить дискуссию в плоскость национального противостояния».
1 февраля 2003 года в другой правительственной газете - «Саратов - столица Повольжья» появилось довольно странное заявление губернатора. Судя по тексту, Дмитрий Аяцков обращался к журналистам и главным редакторам в связи с «последней дискуссией, развернувшейся на страницах саратовских газет». Странность же заявления заключалась в том, что из его текста рядовому читателю был непонятен сам предмет губернаторской обеспокоенности. Начав, что называется, за здравие, со второго абзаца своего заявления Дмитрий Федорович переходил в заупокойную тональность. («Непроверенные, а иногда и лживые факты, подтасовка действительности (?! - А.К.), ловкая игра слов - со всем этим мы сталкиваемся на страницах наших газет, в эфире радио- и телепередач»). В своем заявлении Дмитрий Федорович притворно удивляется: «…непонятно, кому и зачем понадобилось переводить дискуссию в плоскость национального противостояния».
Прошло немного времени, и губернатор начал получать от журналистов ответ на поставленный им вопрос.
13 февраля 2003 года в «Богатее» была опубликована моя статья «Подоплека провокации», где мне пришлось рассказать о своем визите к Сергею Игоревичу Родионову. А также и о том, как главный начальник над губернаторскими советниками зачитывал мне перлы из еще не опубликованного в «СВ» «Хорька». А 22 февраля в газете «Саратовский репортер» были опубликованы еще две заметки, где в качестве непосредственного исполнителя «хорьковой» провокации был конкретно назван советник губернатора Эдуард Абросимов. Я имею в виду заметки В. Вольского «Тайный советник вождя» и К. Утилит «Автором «Хорька» был советник губернатора». Каких-либо опровержений на данные публикации со стороны названных в них лиц не последовало. Хотя и подтверждения тоже. И вот, спустя пять с половиной лет после описываемых событий, Эдуард Абросимов в одном из своих интервью вернулся к теме авторства «Хорька».
Воспоминание 7:
« - Скажите честно, статья 2003 года в «Саратовских вестях», из-за которой было сломано столько копий, «Хорек пил мозг из птичьей головы», ваших рук дело?
- Скажем так, писатель Козьма Прутков - плод творчества нескольких людей, и поэт Алексей Толстой - только один из них. Автор «Хорька» Иван Белозубов - такой же конструкции. (Журнал «Радиус города. Саратов», октябрь 2008 года.)
Как видим, даже сейчас Эдуард Абросимов напрямую не признает, что именно он был автором «Хорька», утверждая, что «Иван Белозубов» - это некий синтетический псевдоним. С учетом того, что упомянутая статья Ивана Белозубова в «Саратовских вестях» является скомпилированным плагиатом, лучшего ответа на столь каверзный вопрос трудно и придумать. Вывод о том, что основной текст статьи «Хорек пил мозг из птичьей головы» был в значительной мере позаимствован у совершенно иного автора, зафиксирован в официальном следственном документе - Экспертном заключении №254, подготовленном известными саратовскими учеными-лингвистами Валентином Гольдиным и Ольгой Крючковой. Исследование текста статьи Ивана Белозубова производилось на основании постановления следователя по особо важным делам прокуратуры Саратова Олега Пименова от 22 января 2003 года. Экспертное лингвистическое исследование было начато 22 января и закончено 27 января 2003 года. Приведем наиболее любопытные выдержки из этого документа.
Воспоминание 8:
«Исследование. 1. Текст статьи «Хорек пил мозг из птичьей головы» был санирован в Лаборатории корпусной лингвистики кафедры общего и славяно-русского языкознания СГУ с ксерокопии, предоставленной экспертам следователем по особо важным делам прокуратуры города Саратова юристом 2 класса Пименовым О.И., и зафиксирована в формате Word-2000 для последующего анализа. Поскольку отдельные особенности текста вызвали предположение о его вторичном характере, был произведен поиск в системе Интернет посредством поисковой системы Yandex. В результате по адресу (…) в материалах сайта «Gumilevica» была обнаружена статья И.С. Шишкина «Внутренний враг», опубликованная, как сообщается на сайте, в №№6,7 журнала «Держава». С текстом данной статьи в значительной мере совпадает текст публикации «Хорек пил мозг из птичьей головы».
Количество дословных совпадений статьи «Хорек пил мозг из птичьей головы» со статьей Шишкина «Внутренний враг» так велико, что для оценки объема и характера совпадений целесообразно дать ниже распечатку статьи «Хорек пил мозг из птичьей головы» с выделением экспертами подчеркиванием только тех частей текста данной статьи, которые не совпадают с текстом статьи И.С. Шишкина «Внутренний враг». (Цитируется по: Роман Арбитман. Дни ХОРЬКА. Саратов, 2003 - с.25-26.)
Следующим этапом своего исследования эксперты-лингвисты попытались разобраться в том, какой из тестов первичен, а какой - вторичен. То есть, выражаясь более доходчиво, ответить на простой вопрос: кто кого интеллектуально обворовал - Иван Белозубов Шишкина или наоборот? В результате это также нашло свое отражение в тексте экспертного заключения:
«Такое количество (значительно более 70%) дословных никак не оговоренных знаками цитирования совпадений в текстах рассматриваемых статей может объясняться либо тем, что статьи имеют одного и того же автора, хотя они и подписаны различными фамилиями, либо - плагиатом. В таком случае один из текстов имеет вторичный характер по отношению к другому. Установить, какой из текстов вторичен, позволяют, в частности, наблюдения над характером порчи текста. В статье «Хорек пил мозг из птичьей головы» сохраняются неточности, имевшиеся в тексте статьи И.С. Шишкина (например, так же неточно цитируется текст «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского), но имеется и дополнительная порча текста: часть цитат, правильно выделенных и документированных в статье «Внутренний враг», дословно сохраняется в статье «Хорек пил мозг из птичьей головы», но уже без кавычек и ссылок (это типичная порча текста), а во-вторых, имеется порча текста и другого характера, связанная с тем, что создатель вторичного текста не владеет полностью информацией, которая была у автора первичного текста. Так, в статье «Внутренний враг» приведены строки «Как сладостно отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья» с указанием в скобках фамилии автора: Печорин. На самом деле фамилия философа и поэта Владимира Сергеевича Печерина (1807-1885), которому принадлежат эти строки, пишется через «е»: Печерин. Автор вторичного текста, по-видимому, понял номинацию Печорин как фамилию персонажа «Героя нашего времени». Поэтому, взяв данную цитату эпиграфом своей статье, он приписал эти строки «Михаилу Лермонтову» и, следовательно, внес в свой текст дезинформацию, существенно искажающую представление читателей о духовном облике М.Ю. Лермонтова. Кроме того, вместо правильного «И жадно ждать ее уничтоженья» в статье «Хорек пил мозг из птичьей головы» дается искаженное «И жадно ждать ее уничиженья», что также является порчей текста статьи И.С. Шишкина. Таким образом, вторичным следует считать текст статьи «Хорек пил мозг из птичьей головы». (Там же, с.33-34.)
Однако воровством и порчей текста одной лишь статьи «Внутренний враг» Иван Белозубов не ограничился. Лично я, исследуя в феврале 2003 года текст «Хорька», обнаружил в нем испорченный фрагмент самого Шафаревича. О чем и рассказал на страницах газеты «Богатей», где я в ту пору работал.
Поскольку речь шла о более известном авторе, чем некто Шишкин, в данном случае методика «порчи» была более изощренной. А именно, из текста первоисточника («Русофобия») брался абзац, несущий в себе законченную мысль. Затем в первоначальном тексте «Белозубов» заменял прилагательные, что позволяло приблизить смысловую конструкцию к современным российским и даже саратовским реалиям.
Воспоминание 9:
«Для оценки справедливости этого тезиса процитирую один из отрывков небезызвестного труда Шафаревича. Тот, где речь идет о людях, конструктивно воспринявших идеи французских просветителей XVIII века. Именно из их среды вышел «необходимый для переворота тип человека, которому враждебно и отвратительно все то, что составляет корни нации, ее духовный костяк: католическая вера, дворянская честь, верность королю, гордость своей историей, привязанность к особенностям и привилегиям родной провинции, своего сословия или гильдии».
А вот какую характеристику дает компилятор «Хорька» (автором его назвать просто язык не поворачивается) последователям Юрия Санберга, «для которых враждебно и отвратительно все то, что составляет нашу духовную основу: православная вера, офицерская честь, верность государству, привязанность к социально-ориентированным, по словам Александра Починка, особенностям Саратовской области». Как видим, технология порчи текста Шафаревича банальна. Католическая вера заменяется на православную, верность королю на верность государству. После таких глубокомысленных пассажей Ивана Белозубова становится немного обидно за Дидро и Вольтера. Зато душа радуется за Юрия Наумовича, поставленного в один ряд с великими французскими просветителями XVIII века. (Александр Крутов. Подоплека провокации - «Богатей», №5(191) от 13 февраля 2003 г.)
Подобные выводы коренным образом меняли юридическую сущность содеянного «Иваном Белозубовым». Вместо грозной 282-й статьи УК - «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды», в самом факте публикации «Хорька» начинали просматриваться признаки совершенно иного уголовного преступления. А именно, нарушения авторских и смежных прав (ст.146 УК РФ). Однако для образования состава преступления по этой статье, помимо собственно плагиата, необходимо было доказать причинение существенного ущерба. Применительно к статье Шишкина «Внутренний враг» или даже «Русофобии» Игоря Шафаревича сделать это было практически невозможно, поскольку их продукты априори не являлись коммерческими, созданными авторами с целью извлечения дохода. Да и сами Шишкин с Шафаревичем вряд ли представляли, что в каком-то далеком от них Саратове какой-то прохвост беззастенчиво украл и испортил их тексты прямо на страницах областной правительственной газеты. Поэтому заявлений в правоохранительные органы от формально потерпевших на плагиатора Белозубова ждать было бессмысленно.
 Лично я от всей этой истории ощутил чувство какой-то неловкости. Как будто шел в приличное общество, а в реальности оказался свидетелем ситуации, когда кто-то прямо у тебя на глазах справляет свои естественные потребности.
Лично я от всей этой истории ощутил чувство какой-то неловкости. Как будто шел в приличное общество, а в реальности оказался свидетелем ситуации, когда кто-то прямо у тебя на глазах справляет свои естественные потребности.
Так или иначе, но вместо первоначально маячившего образа националиста и государственника спрятавшийся за псевдонимом «Иван Белозубов» персонаж оказался на поверку мелким жуликом-плагиатором и вопиющим невеждой. Иначе как можно объяснить тот факт, что «Белозубов» путает поэта и философа Вадимира Печерина и поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Конечно, творчество Владимира Печерина, в отличие от творчества Лермонтова, в советских средних школах не изучали. Однако спин-доктор Эдуард Абросимов вроде бы как числится у нас дипломированным историком с высшим образованием от СГУ. Ему-то грех не знать о философе и поэте, который одним из первых в России провозгласил Православие идеологической основой духовного рабства русского народа. А затем, жизнью своей подтверждая правоту и силу собственных убеждений, уехал за границу и сделался католическим монахом. Но если Абросимов осведомлен о Печерине, то почему он ставит отменного невежду «Белозубова» в один ряд с автором «Князя Серебряного»? Или, быть может, Абросимов также является неотъемлемой частью Белозубова?
Попытка найти ответы на эти непростые вопросы заставляет нас прервать ранее избранный хронологический порядок повествования и начать разговор о некоторых психологических особенностях личности нашего основного героя.
Продолжение следует
