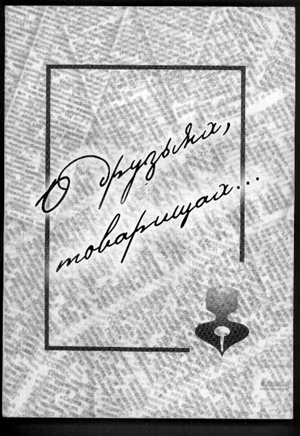Газетный номер живет один день. Это, согласитесь, обидно для пишущих: журналист километры отшагал «ради нескольких строчек», вложил душу в корреспонденцию о посевной или уборочной, а завтра что? Забыто, списано в архив, пожелтело - и начинай все заново?
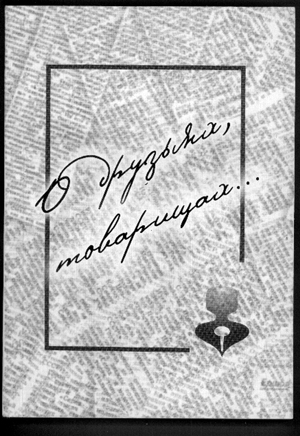 Газетный номер живет один день. Это, согласитесь, обидно для пишущих: журналист километры отшагал «ради нескольких строчек», вложил душу в корреспонденцию о посевной или уборочной, а завтра что? Забыто, списано в архив, пожелтело - и начинай все заново?
Газетный номер живет один день. Это, согласитесь, обидно для пишущих: журналист километры отшагал «ради нескольких строчек», вложил душу в корреспонденцию о посевной или уборочной, а завтра что? Забыто, списано в архив, пожелтело - и начинай все заново?
Нина Ущева, составляя сборник очерков, интервью и мемуаров «О друзьях, товарищах...» (Саратов, издательство «Аквариус»), вероятно, преследовала благую цель. Книга должна была сохранить для земляков образы коллег-журналистов старшего поколения, служивших в местной прессе еще в советское время: напомнить о тех, кто сегодня уже отошел от дел и вышел на покой, и помянуть хорошим словом тех, кто ушел из жизни.
Не секрет, что большинство журналистов советской поры, много лет проработавших в глубинке, имеют основания гордиться пусть негромкими, но добрыми делами. Какой бы монолитной ни выглядела партийно-советская система, внутри нее оставались лазейки для маневра: репортер мог использовать ведомственное соперничество, межчиновничьи трения, сбои в бюрократическом механизме или просто личное расположение конкретного начальника. Маленькая победа - она все равно победа. Когда спасена хотя бы одна человеческая судьба, когда в одном отдельно взятом районе восстановлена справедливость, когда герою вернули награды, а злодей получил по заслугам, - журналист прожил жизнь не зря.
В книге «О друзьях, товарищах...» можно встретить подобные эпизоды (в статье Риммы Поляковой о Вере Нефедовой, в интервью с Михаилом Исхизовым, в очерках Павла Летувета), однако не они оказались лейтмотивом сборника и не они, к сожалению, определили его тональность. Скрипок и флейт в оркестре до обидного мало, преобладают барабаны и литавры, а дирижер, похоже, отлучился.
Аннотация извещает, что сборник готовился и вынашивался долгих пять лет, а в предисловии особо подчеркивается «требовательность издателя и редактора» (то есть уже названной выше Нины Ущевой). Отчего же тогда никто не позаботился вычитать текст и выправить стилистику - газетную в самом дурном смысле этого слова?
Как известно, советская эпоха выковала особый язык, мало похожий на человеческий. Корней Чуковский еще полвека назад назвал его канцеляритом. «Не утрачивает живого интереса к работе с молодыми журналистами», «тема человека труда превалировала в газетах», «действенность конструктивной критики», «в журналистской среде проходил конструктивный обмен мнениями», «еще выше поднять планку общего уровня журналистского мастерства», «о тех, кто повседневно занимался упорно и настойчиво экономическими вопросами»... И так далее - примеры можно выписывать десятками; авторы у текстов разные (нет смысла называть их пофамильно), а слог одинаковый. И скорее Волга замерзнет в июле, чем эта унылая жвачка пробудит в ком-то из молодых читателей хоть толику живого интереса к героям книги.
В выходных данных редактором значится некто А.А. Богатырев, но поверить в реальность его существования непросто. В советском журнале «Крокодил» существовала юмористическая рубрика «Нарочно не придумаешь», и сборник, изданный Н. Ущевой, мог бы питать эту рубрику довольно долго. «Горячо приняли рождение книги», «желание в буквальном смысле слова напоить засушливые степи», «интересные по событиям 60-е годы массового энтузиазма», «попав на высокую ступеньку руководства и оплаты труда», «жуткая оперативность, которая постоянно скребет в тебе назойливую мысль», «серьезный поворот в повышении авторитета»... А как вам, например, такая фраза: «На любом посту Иван Иванович оставлял свой след - глубокий, нужный, поучительный»?
При чтении сборника осознаешь, что стиль публикаций точно отражает настрой большинства авторов, а сама книга превращается в эдакий рупор коллективной ностальгии по ушедшему совку. «Это было время, объединившее творческую интеллигенцию, людей науки, общественных деятелей, время жизнеутверждающей деятельности посланцев мира всех стран, находящее отклик в сердцах людей»...
О каком времени идет речь? Да о брежневских 70-х, конечно. Про царство очередей, дефицита, коллективного «одобрямса» и «осуждамса» в книге не говорится, зато на страницах естественно возникает трогательный образ «дорогого Леонида Ильича». А кто рядом с Брежневым? Кто был для Саратова «добрый «ангел», кто говорил «с присущим ему жаром, когда речь касалась важных дел»? Это он, это он - первый секретарь саратовского обкома КПСС Алексей Шибаев. При нем тучнели стада, колосились нивы, ввысь поднимались строительные «леса», корреспондент ТАСС (один из персонажей книги) бодро рапортовал о выпуске новых подшипников.
Порой за силуэтами «потемкинских деревень» вдруг проскальзывает иное: то Виктор Тюрин напомнит о «жестких политических и цензурных ограничениях», то Михаил Исхизов приведет несколько примеров идиотического вмешательства в дела журналистов обкома КПСС. Но все эти печальные приметы прошлого тают в океане восторженного благолепия. Теперь нетрудно догадаться, что даже маленького доброго словечка не перепадет от авторов книги человеку с «черным нутром» - Михаилу Горбачеву, который «предал и продал свою партию, Родину и Россию». После рокового акта продажи и предательства история прекратила течение свое: «под видом свободы печати началась полная анархия», а «девушки на посиделках перестали петь свои задушевные песни»...
Из всех очерков, вошедших в сборник, самое сильное впечатление производят, безусловно, «Зори Виталия Колчина» (откроем уж имя автора произведения - это художник Владимир Бутенко). Главный редактор «Зари молодежи» (1962 - 1969) и директор Приволжского книжного издательства (1969 - 1982), Колчин предстает в очерке Бутенко «колоссом, освещенным зарей, памятью близких друзей».
Еще несколько цитат из того же очерка. «Он шел по жизни с уверенностью и надеждой, с открытой улыбкой глядя вперед своими ясными глазами». «Избранный им демократический стиль руководства (...) сплачивал коллектив в единую семью». «Колчинский период издательства в его восьмидесятилетней истории был самым ярким, звездным, отмеченным достижениями книжного искусства». «Виталий Васильевич собрал и воспитал коллектив единомышленников - настоящих бойцов книжного фронта. Авангардную группу составили бывшие «заревцы» - Николай Рыжков, Виктор Селезнев...»
Прервем цитату. Названный выше Виктор Селезнев вспоминал, как «колосс» Колчин, пришедший в «Зарю молодежи», первым делом наводнил ее собственными «фельетонами» ужасающего качества. На редакционной планерке этот титан духа отважно путал Есенина с Евтушенко (что не помешало Колчину впоследствии зарабатывать «составлением» книг и самого Есенина, и множества иных русских и советских классиков). Придя в издательство, ясноглазый директор первым делом разогнал художественную редакцию, уволил нескольких специалистов и «зарубил» книгу Владимира Сандлера об Александре Грине, придравшись к тому, что в начале ХХ века автор «Алых парусов» сочувствовал эсерам (потом эта книга благополучно вышла в Ленинграде). Сам же Селезнев был довольно скоро уволен Колчиным - за то, что пропустил в печать книгу Льва Горелика.
Вот как писал, скорее всего, о Колчине Сергей Боровиков («Новый мир», 2000, №10): «Директор нашего издательства К-н был антисемитом, что само по себе и не ново. Но К-н был антисемитом истовым, поэтом антисемитизма, жидоедом по призванию. Притом крайне темным, дремучим товарищем, поднявшимся из комсомольских недр. Он не имел понятия даже о малом антисемитском наборе вроде «Протоколов сионских мудрецов» и более искал наглядных проявлений, как тогда выражались, сионизма. К примеру, завхоз издательства приобретает новые хрустальные стаканы, приносит начальству, берет К-н стакан в руки, вертит его и заметно бледнеет. «Ты где эту гадость взял?» - вопрошает он у побледневшего тоже завхоза. Выяснив, что стакан произведен на местном заводе технического стекла, К-н бежит то ли в обком, то ли в КГБ, и начинается целая история с целью снять с производства стаканчики граненые с шестиконечным дном.
Так вот, К-н, взяв для просмотра рукопись моего сборника, куда вошел и очерк о Вертинском, приглашает меня к себе, предварительно снабдив рукопись запискою, помню такие замечательные в ней слова: «Нет, не ту песню, Сережа, поешь ты вместе с Вертинским. Твое место там, где Пушкин, Некрасов, Горький, Маяковский, даже Бунин, но не там, где Вертинский». А наедине посоветовал мне не поганить смолоду биографию и про сионистов не писать. На мое изумление по складам произнес: «Вер-тин-ский! ский, понятно тебе?» Еще более изумясь, я назвал несколько бесспорных фамилий, как-то: Достоевский, Мусоргский, Чайковский, но К-н, разумеется, ничего не слышал».
Все это было бы смешно, когда бы не было так отвратительно. Человеку с патологией, которой место в кунсткамере, доверили (вновь процитируем хвалебного Бутенко) «издательское пространство, равное крупному государству, а вместе с ним и прямое подчинение Москве - Госкомиздату РСФСР». Как он пользовался своей властью, мы уже упоминали. Ефим Водонос рассказывал, как в конце 70-х Колчин проредил авторский состав готовящегося к печати путеводителя по музейным залам Саратова - мол, среди авторов что-то чересчур много евреев. Именно при Колчине в Саратове буйно расцвела «антисионистская» литература с отчетливым антисемитским душком. «Много ли наших издательств с такой готовностью перепечатали тиражом в 50 тысяч экземпляров всем цивилизованным миром признанными юдофобскими и погромными книги «Вторжение без оружия» В. Бегуна и «Расизм под голубой звездой» Е. Евсеева? - писал Е. Водонос («Саратовские вести» от 31 октября 1991 года). - Я заглядываю не в далекие 50-е, а в 80-е годы. Так что свой вклад в формирование нацистской идеологии издательство наше сделало»...
Превращать антигероев в героев, мистифицировать прошлое, подновлять руины методом «косметического ремонта» - все это, мягко говоря, не лучший способ пробуждения любви к родному краю. Интересно, читал ли рукопись один из главных спонсоров книги, член политсовета Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Якимов? А если читал, то о чем думал?
Тираж книги «О друзьях, товарищах...» - тысяча экземпляров. По нынешним меркам, это немало и даже много. Всем желающим (если таковые найдутся) хватит в избытке, и еще останется. Можно только строить догадки, где в итоге окажутся остатки тиража. Обложка, имитирующая фактуру хорошенько размятой газетной бумаги, наводит на некоторые предположения...