Название для рецензии на только что вышедший майско-июньский номер журнала «Волга» я позаимствовал у Виктора Астафьева: была у него такая повесть, о провинциальном милиционере, и, кстати, вовсе не детективная, заглавию вопреки. Но безусловно печальная. Столь же печальна мысль о том, что энергия зла - подобно любой другой энергии - не может вот так запросто исчезнуть без следа; однажды попав в окружающую нас среду, зло остается с нами и ищет лазейку, через которую может выплеснуться наружу
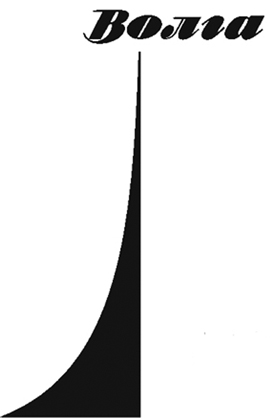 Название для рецензии на только что вышедший майско-июньский номер журнала «Волга» я позаимствовал у Виктора Астафьева: была у него такая повесть, о провинциальном милиционере, и, кстати, вовсе не детективная, заглавию вопреки. Но безусловно печальная. Столь же печальна мысль о том, что энергия зла - подобно любой другой энергии - не может вот так запросто исчезнуть без следа; однажды попав в окружающую нас среду, зло остается с нами и ищет лазейку, через которую может выплеснуться наружу.
Название для рецензии на только что вышедший майско-июньский номер журнала «Волга» я позаимствовал у Виктора Астафьева: была у него такая повесть, о провинциальном милиционере, и, кстати, вовсе не детективная, заглавию вопреки. Но безусловно печальная. Столь же печальна мысль о том, что энергия зла - подобно любой другой энергии - не может вот так запросто исчезнуть без следа; однажды попав в окружающую нас среду, зло остается с нами и ищет лазейку, через которую может выплеснуться наружу.
Сразу несколько авторов рецензируемого номера «Волги» приходят к равно невеселому выводу: в жизни самых обычных, законопослушных и «правильных» (с точки зрения Уголовного кодекса) людей сыщется местечко для преступления. И поскольку вакансия свидетеля чаще всего уже кем-то занята, выбор у человека небогатый. Либо он станет жертвой, либо преступником, а третьего не дано.
Хотя действие рассказа постоянного автора «Волги» Вадима Ярмолинца «День независимости» происходит не в России, а в США, главные герои носят русские имена, да и сам сюжет поначалу выглядит вариацией на тему маканинской «Отдушины»: два женатых человека, Михаил Михайлович (постарше) и Гена (помоложе), ищут понимания вдали от родных семей - в объятьях незамужней Кати. Но если у Маканина «соревнование» главных героев носит более-менее мирный характер, то у Ярмолинца фабула стремительно сносит персонажей в криминальное русло. Сшибка двух амбиций накаляет атмосферу и... «Перебросив руку через спинку сиденья, Михаил Михайлович берет с заднего ножку от кухонного стола. Как она здесь кстати! От возбуждения его бьет дрожь. Никаких разговоров, никаких выяснений отношений, им нечего выяснять. Кто бьет первым, тот выигрывает спор. Выбравшись наружу, он не ждет, когда соперник выйдет из своей машины, а, забежав сзади и высоко вскинув деревянный брус, наносит удар по высунувшейся ноге, а потом, когда грузное тело с мычанием вываливается наружу, еще один - и тоже с большого размаху - по голове. «Бэнг!» - звенит полированый кленовый ствол...» Превращение человека в убийцу состоялось. Ярмолинцу не требуется следовать канонам жанровой прозы, и, значит, за преступлением не последует наказание. Автор предлагает читателю взглянуть на ситуацию сначала глазами Михаила Михайловича, потом его жены Софьи Борисовны, потом Кати и, наконец, Вики - жены Геннадия. И с каждой сменой ракурса сюжет выглядит все грустнее и грустнее...
Принимаясь за чтение рассказа Елены Тюгаевой «Ворота в мир», тоже не ждешь особого драматизма. Настя Брусенцева, приехавшая отдохнуть в Германию, старается не нагружать себя проблемами и не задавать вопросов, которые могли бы поставить собеседника в тупик. Настя гуляет, пьет кофе, общается с такой же, как и она, туристкой Евой и не думает о плохом. Но жизненные драмы героиню все же настигают - в образе случайного знакомца Хайре, который приехал, чтобы найти отморозков, виновных в смерти его невесты и оставшихся практически безнаказанными. «Судьи, которые дают убийцам по два года условно, не понимают, что плодят заразу, - говорит Хайре. - Эта зараза сожрет всех - сегодня турок, завтра славян, потом больных, алкоголиков и так далее. Историю плохо учили, наверное». Словами Хайре не ограничивается: он жестоко мстит убийцам, а Настя, никак не отговорившая юношу от самосуда, чувствует свою причастность к убийствам. Вскоре выясняется, что новая подруга Ева - не та, за кого себя выдает, и ее разыскивает полиция. «Одно дело - поймать немного адреналина, и совсем другое - оказаться втянутой в криминальные происшествия», - нервничает Настя, а куда деваться? Водоворот уже проглотил ее, не выплывешь, не перепишешь судьбу набело...
Главный герой рассказа Всеволода Власова «Моя перспектива» - врач и начинающий писатель по имени Глеб. Как врач Глеб обязан помогать больным и страждущим, но как писатель он должен быть еще и наблюдателем, чтобы затем описать увиденное: «Я смотрел за смертью спокойно, будто наблюдая по TV с другого континента. Старуха не торопилась, но вцепилась крепко. Несмотря на первый год работы, я был зрелым циником (...). Я знал, что главное, в случае смерти больного, - это защитить свою задницу, а вовсе не ТО, что можно было бы изменить во избежание горя. Это было ясно, как день, поэтому меня это не очень задевало. Я об этом не думал...» В этой мрачной цитате «я» принадлежит не автору, но лирическому герою, однако велика ли между ними дистанция? И есть ли она вообще - во всяком случае, не для искушенного филолога, а для обычного читателя? Начальники вызывают Глеба, зачитывают ему фрагменты его же произведений и предлагают без уверток взять ответственность за героя. На первых порах это судилище выглядит театром абсурда (проза - не протокол), но затем грань между реальностью и фантазиями действительно стирается - и для Глеба, и для читателя рассказа «Моя перспектива». Кто в финале ударил по лицу пожилого профессора? Сам Глеб? Его лирический герой, вообразивший, что вступил в схватку с удавом? Ответа нет...
О том, насколько тонок - и проницаем, увы! - может быть барьер между писательским любопытством и соучастием в преступлении, напоминает нам статья Виктора Селезнева «Хроника отсроченного убийства». Рецензируя книгу «Слово и «дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений», известный саратовский литературовед подробно излагает трагические перипетии поэта. Мандельштам, написавший однажды «Мы живем, под собою не чуя страны», вскоре сам лишился опоры в этой жизни и осознал, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНО в этой стране относятся к поэзии: за нее убивают. Автор статьи подчеркивает, что не последнюю роль в уничтожении поэта сыграли его же «коллеги»-литераторы. Причем дело не ограничивалось наветами. Селезнев приводит рассказ Надежды Мандельштам о члене Союза писателей и четырежды лауреате Сталинской премии первой степени Петре Павленко - «как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело О. М., и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверьми, на ночном допросе...»
Одна из знаковых публикаций этого номера «Волги» - статья Сергея Боровикова «Серапионы и тараканы», жанр которой сам автор определил как «просто размышления по поводу некоторых персон и посвященных им страниц книги» (речь идет о сборнике «Фединские чтения. Выпуск 4»). В отличие от многих постсоветских литературоведов, которые в новейшие времена поспешили выбросить на свалку все творчество Константина Федина, Боровиков и в этой статье, и в других высоко оценивает Федина-писателя, и не только раннего (исследователь полагает, что даже в «Необыкновенном лете» наберется «немало страниц настоящей русской прозы»). Но рецензент не скрывает своего отношения к Федину-чиновнику, Федину-царедворцу, и тут уж нет места ни восторженным эпитетам, ни превосходным степеням, ни политкорректным умолчаниям.
В статье Боровикова читатель найдет обширную цитату из письма Вениамина Каверина Федину. Приведем ее полностью; это - горькие слова современника и бывшего соратника по знаменитому объединению «Серапионовы братья»: «Мы знакомы 48 лет, Костя. В молодости мы были друзьями. Мы вправе судить друг друга. Это больше, чем право, это долг... Как случилось, что ты не только не поддержал - затоптал «Литературную Москву», альманах, который был необходим нашей литературе? Ведь накануне полуторатысячного собрания писателей в Доме киноактера ты поддерживал это издание. С уже написанной опасно-предательской речью в кармане, ты хвалил нашу работу... Недаром на 75-летии Паустовского твое имя было встречено полным молчанием. Не буду удивлен, если теперь, после того как по твоему настоянию запрещен уже набранный в «Новом мире» роман Солженицына «Раковый корпус», первое же твое появление перед широкой аудиторией писателей будет встречено свистом и топотом ног... Нет сейчас ни одной редакции, ни одного литературного дома, где не говорили бы, что Марков и Воронков были за опубликование романа и что набор рассыпан только потому, что ты решительно высказался против... Ты берешь на себя ответственность, не сознавая, по-видимому, всей ее огромности и значения... Ты становишься, может быть, сам того не подозревая, центром недоброжелательства, возмущения, недовольства в литературном кругу...»
Да, Федин - не Павленко, со следователями НКВД близкой дружбы не водил, в допросах не участвовал, но руководящую совписовскую должность был обязан отрабатывать. Потому-то в жизни Константина Александровича тоже было немало «печальных детективов». И тут, говоря словами Твардовского, «не убавить, не прибавить».
